Что читать: Троцкий, облачные крепостные и гимн современной Индии
«Реальное время» выбрало три книжные новинки апреля

Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова выбрала три яркие новинки апреля: трогательный роман о старости и свободе в современной Индии, радикальный манифест против цифровых феодалов и новую биографию Льва Троцкого, где революция и трагедия идут рука об руку. Три разных голоса — одна общая тема: как мы меняемся под давлением времени, любви и власти.
Гитанджали Шри. «Растворяясь в песках», Inspiria (перевод с хинди Екатерины Комиссарук, 480 стр., 18+)
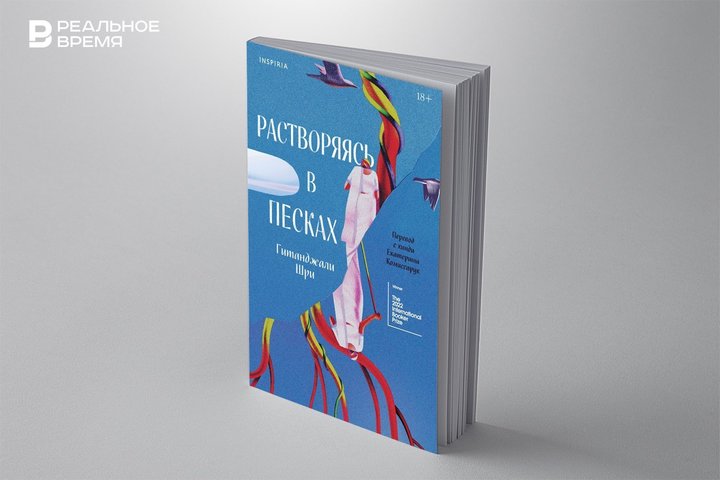
Гитанджали Шри взяла в руки хрупкую трость старой женщины — и превратила ее в ключ от множества запертых дверей. В романе «Растворяясь в песках» восьмидесятилетняя Ма, сначала недвижимая и сломленная, вдруг восстает, словно сама Индия, обретая силу идти наперекор всем границам — возрасту, полу, государству. С первых страниц роман требует терпения. Ма лежит спиной к читателю, отвернувшись от мира и семьи. Ее боль незрима, но ощутима — словно песок, проникающий под кожу. Столь долгая неподвижность кажется концом, но становится началом. Ма поднимается, хватает волшебную трость и исчезает. С этого момента повествование отпускает привычные берега: рассказ ведут птицы, разговаривают предметы, а язык книги переливается, шутит, изобретает новые слова. Гитанджали Шри разрушает линейность и заставляет читателя переживать внутреннюю свободу героини буквально на уровне текста.
Ма возвращается — и снова уходит, на этот раз в великое путешествие в Пакистан, страну, которую она покинула ребенком в 1947 году во время кровавого Раздела Индии. Путь Ма — не просто дорога в прошлое. Это попытка собрать разорванную ткань собственной жизни, найти любовь, утонувшую под толщей истории. Там, за чертой государственных границ, она встречает Али Анвара — своего первого возлюбленного — и вновь становится Чандой, тем именем, которое у нее отняли. Границы не разъединяют, они соединяют — эта простая фраза проходит сквозной нитью через весь роман. Границы здесь — не только линии на карте. Это возрастные предрассудки, гендерные нормы, семейные узы, которые порой душат вместо того, чтобы поддерживать.
Стиль Шри — причудливый, экспериментальный, щедрый на метафоры — временами превращается в тяжелую вязь слов. Персонажи теряются в бесконечных отступлениях, а порой сам текст словно песчаная буря сбивает с толку, заставляя читателя бороться за каждую крупицу смысла. Это не просто художественный прием — это испытание. Те, кто не готов к такому опыту, могут сдаться на полпути. В Индии книгу приняли неоднозначно: одни восхищались новаторством, другие обвиняли роман в несерьезности и непроходимости. И лишь после присуждения Международного Букера, когда роман наконец заметили на Западе, в самой Индии началась настоящая волна интереса.
«Растворяясь в песках» — это гимн Индии, многоголосой, страдающей, сопротивляющейся. Это протест против упрощения, против штампов, против того, чтобы свести сложные человеческие жизни к удобным ярлыкам. Книга напоминает: за каждой границей — новая история. За каждым молчанием — скрытая вселенная. Не всем легко будет пройти этот путь вместе с Ма. Но те, кто рискнет, выйдут из этой книги другими — растерянными, окрыленными, думающими.
Янис Варуфакис. «Технофеодализм», Ad Marginem (перевод с английского Алексея Снигирова, 304 стр., 16+)
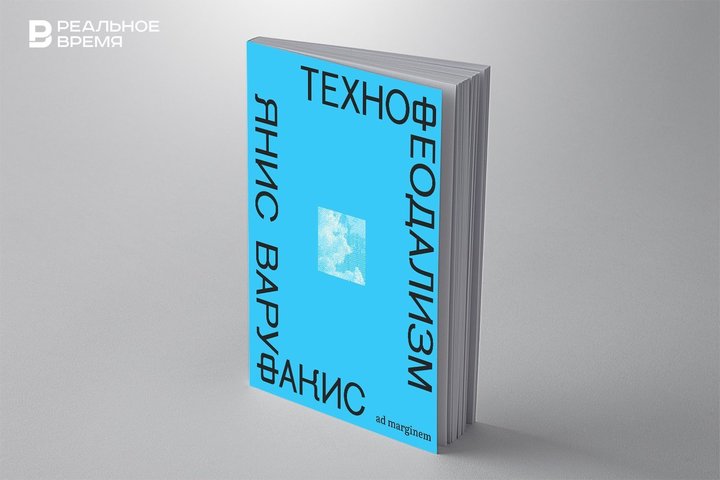
Когда-то капитализм казался вечным. Его изъяны были очевидны, но его господство — неоспоримо. Сегодня все меняется. Янис Варуфакис, экономист, бывший министр финансов Греции и по совместительству «рок-звезда экономической мысли», утверждает в книге «Технофеодализм» нечто поразительное: капитализм мертв. Его поглотила новая сила — технофеодализм. Варуфакис пишет не сухой трактат. Он ведет диалог — с читателем, с историей, с собственным отцом, который умер в 2021 году. Эти страницы наполнены личными историями, интеллектуальными экскурсиями от Гомера до Бэтмена, от Тома Эдисона до сериала «Безумцы». Однако сквозь все повествование звучит тревожная мелодия: мы живем не просто в эпоху цифровизации. Мы стали вассалами новой аристократии — «облачных капиталистов».
Крупные технологические гиганты — Amazon, Apple, Google, Microsoft — по Варуфакису не участники рынка. Они и есть рынок. Подобно лордам феодальной эпохи, они не создают товар сами — они берут ренту за доступ к земле цифровой экономики. Если вы разработали приложение, разместили его в App Store, треть дохода сразу уходит Apple. Это не прибыль. Это чистая рента, говорит Варуфакис. А экономика, построенная на ренте, не растет. Она застывает. Она умирает. Одна из ярких историй книги — рассказ о том, как облачные платформы контролируют своих пользователей. Аккаунты могут быть заморожены без объяснения причин. Один щелчок алгоритма — и ваш бизнес, карьера, общение исчезают, как если бы феодал изгнал вас с земли.
Варуфакис сравнивает нынешнюю ситуацию с крушением великого социального контракта, который положил конец феодализму и дал начало капитализму и демократии. При капитализме рабочий мог «свободно» продать свой труд. В новом мире даже это право иллюзорно. Наши данные, лайки, клики стали товаром. Мы сами — ресурс для новых лордов. Особенно сильно Варуфакис оживляет свою теорию, отсылая к поп-культуре. Чтение «Технофеодализма» завораживает. Варуфакис умеет быть ярким, вызывающим, личным. Его опыт — от переговоров с тройкой европейских кредиторов до дискуссий на конференциях ООН — делает его рассказы живыми и убедительными. Когда он вспоминает, как пытался спасти Грецию от долговой ловушки и проиграл, звучит не только горечь поражения, но и упорство человека, который продолжает бороться, пусть теперь уже словами и идеями.
Но Варуфакис категоричен. Он настаивает: это не капитализм, а новый строй. Хотя его собственный отец, чьим голосом он порой ведет диалог на страницах, задает неудобный вопрос: «Разве это не просто капитализм, доведенный до крайности?» И действительно, граница между мутировавшим капитализмом и «технофеодализмом» остается размытой. Тем не менее Варуфакис заставляет задуматься. Где проходит грань между свободой и цифровым рабством? Какую цену мы платим за удобство приложений и социальных сетей? «Технофеодализм» — это призыв к осознанию. Это предупреждение о будущем, которое уже наступило, пока мы бездумно листаем ленты новостей. И, возможно, если вслушаться в эти тревожные сигналы, у нас еще есть шанс не остаться навсегда «облачными крепостными».
Джошуа Рубинштейн. «Троцкий: Жизнь революционера», «Альпина нон-фикшн» (перевод с английского Максима Коробова, 280 стр., 12+)
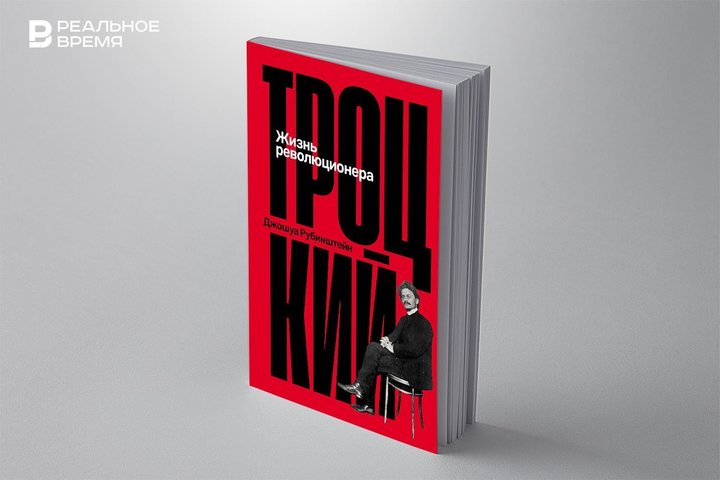
Джошуа Рубинштейн подошел к биографии Льва Троцкого с осторожностью, стремясь быть одновременно уважительным и критическим. Его «Троцкий: Жизнь революционера» — это сжатая, компактная хроника судьбы одного из самых трагических и противоречивых героев XX века. Троцкий у Рубинштейна — не бронзовый идол и не карикатурный злодей. Он показан как человек, блестящий, упрямый, подчас безжалостный, но преданный вере в революцию до последнего удара сердца. История начинается там, где рождается великий миф: мальчик из украинской глубинки, неспособный отождествить себя с еврейской общиной, обретает новую веру — марксизм. В Одессе юный Лев Давидович погружается в мир идей, где национальная принадлежность меркнет перед призывом к всемирной справедливости.
Рассказ о том, как Троцкий, будучи комиссаром по военным делам, мчался по фронтам Гражданской войны в своем знаменитом бронепоезде, — яркая иллюстрация силы политика. Он не просто отдавал приказы — он лично вдохновлял солдат, писал воззвания, спорил, убеждал. Эта энергия, почти сверхчеловеческая, определяла весь его жизненный путь. Но Рубинштейн показывает и другую сторону героя — его политическую беспомощность в борьбе со Сталиным. Гордость и вера в собственную интеллектуальную непогрешимость мешали Троцкому видеть опасность. Он недооценил Сталина, считая его серой посредственностью. Эта ошибка стоила ему власти, а впоследствии — и жизни. В книге запоминается сцена: изгнанный в Алма-Ату, затем выброшенный за пределы СССР, Троцкий тщетно ищет приют в Европе, сталкиваясь с отказами одного за другим.
Рубинштейн подчеркивает: трагедия Троцкого заключалась в его неспособности отказаться от революции, даже когда она сама отреклась от него. Его безоговорочная верность идее стала и его величием, и его проклятием. Автор осторожен в трактовке еврейского происхождения Троцкого. Он фиксирует моменты, когда Троцкий дистанцировался от еврейства, и честно отмечает: еврейская тема в его жизни была навязана скорее врагами, чем принята им самим. Симптоматична история с попытками создать еврейские части в Красной армии, чтобы развеять миф о том, что евреи уклоняются от службы. Но даже такие шаги Троцкий предпринимал скорее из политических соображений, чем из чувства национальной солидарности.
Минус книги — недостаточное внимание к политической мысли Троцкого. Его размышления о мировой революции, критика сталинизма, видение угрозы фашизма — все это упомянуто вскользь. Тот, кто ищет глубокого анализа идей Троцкого, будет вынужден обратиться к самим трудам революционера. И все же «Троцкий: Жизнь революционера» — это важная работа. Она возвращает фигуру Троцкого в поле исторической памяти XXI века — без старых холодных страстей, но с пониманием масштаба личности. Рубинштейн пишет о нем не как о демоне и не как о святом, а как о трагическом герое, чей ледяной конец в Мексике остался символом ушедшей эпохи. Революции, идеалы, предательства, изгнания — все это осталось в прошлом. Но Троцкий, как когда-то Наполеон, пережил свою эпоху, превратившись в вечный миф. А мифы, как известно, не умирают.
Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».