Что читать: абсурд как константа мироздания, спрятанная в снегу история и Польша, которой нет
«Реальное время» выбрало три книжные новинки марта
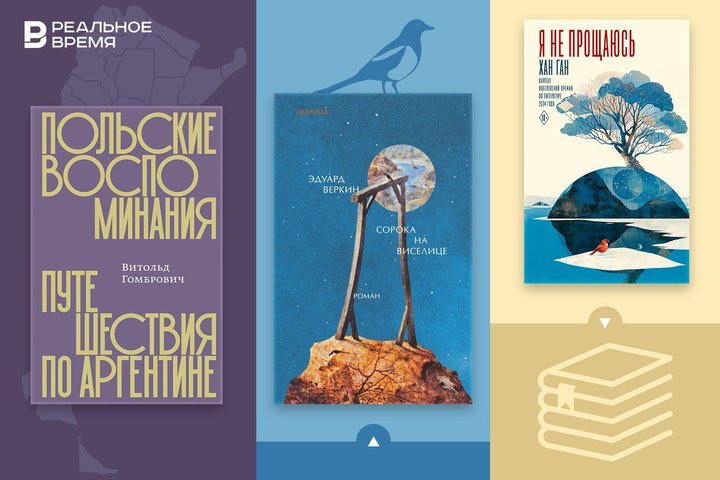
В марте редакция «Реального времени» выбрала три произведения, которые заставляют задуматься о прошлом, будущем и устройстве настоящего. Витольд Гомбрович в «Польских воспоминаниях» смотрит на свою родину издалека — без злобы, но и без сантиментов, разбирая национальные мифы и культурные привычки. Эдуард Веркин в «Сороке на виселице» создает зыбкую, почти сновидческую реальность, где границы возможного и невозможного растворяются. А Хан Ган в «Я не прощаюсь» рассказывает о страшных событиях в Южной Корее, о памяти, которую не удается похоронить даже под толщей снега. Три книги, три взгляда, три сильных голоса.
Витольд Гомбрович. «Польские воспоминания. Путешествия по Аргентине», «Издательство Ивана Лимбаха» (пер. Ю. Чайников, 528 стр., 16+)
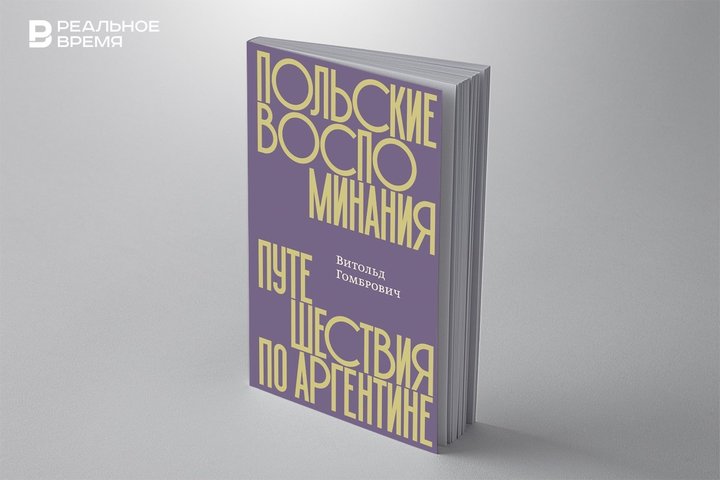
Витольд Гомбрович — писатель конфронтации. Он спорил с традицией, с культурными нормами, с национальными мифами. «Польские воспоминания» — это его попытка разобраться с Польшей — страной, от которой он бежал, но которую никогда не смог оставить. В этих текстах Гомбрович одновременно бережен и беспощаден: описывает Польшу без ностальгии, без пафоса, но и без злости. Он смотрит на нее с высоты аргентинских лет, но взгляд его остается пристальным. Эти тексты были написаны для радио «Свободная Европа» в конце 1950-х — начале 1960-х годов. Они должны были звучать в эфире, и потому Гомбрович не слишком усложняет стиль, но сохраняет свое фирменное остроумие и иронию. В них много автобиографического, но это не исповедь, а скорее разбор: каков был тот мир, из которого он вышел? И почему он ему не подходил?
Для Гомбровича Польша — это театр, сцена, где разыгрываются старые и новые драмы. Он описывает свою семью: экзальтированную мать, конвенционального отца. Он вспоминает школу и своего учителя литературы, который с фанатизмом внушал ученикам поклонение перед национальными поэтами. Польша для Гомбровича — страна норм и ритуалов. Здесь существует четкий кодекс поведения, от которого нельзя отступить. Взросление же стало попыткой вырваться из этого кода. Польша жила памятью о прошлом, но в этом прошлом не было места для самого Гамбровича.
В 1939 году Гомбрович поехал в Аргентину, а затем остался там на долгие годы. «Путешествия по Аргентине» — это тексты, в которых он пытается разобраться, чем эта страна отличается от Польши. Он восхищается открытостью Аргентины, молодостью, свободой. Но и здесь он замечает театральность, наигранность, пристрастие к внешнему блеску. Одна из самых остроумных сцен книги — сравнение писсуаров в Польше и Аргентине. Даже в таких мелочах Гомбрович видит культурные различия. Польша, говорит он, слишком увязла в своей интеллектуальной тяжести, Аргентина же — наоборот, легковесна. Ни там, ни там нет идеального баланса. Отношение Гомбровича к Аргентине — смесь любви и насмешки. Он критикует ее общество за поверхностность, называет аргентинскую литературу скучной. Особенно достается Борхесу. Но в то же время он говорит, что Аргентина дала ему свободу. Здесь он не обязан быть тем, кем его хотела видеть Польша. Здесь он может быть просто собой.
Эти тексты — важный ключ к пониманию Гомбровича. Они показывают, как формировалась его мировоззренческая независимость. Как в нем рождался скептицизм, неприятие авторитетов, нежелание соответствовать. Гомбрович дает читателю возможность взглянуть на мир его глазами — глазами человека, который никогда не был до конца своим ни в Польше, ни в Аргентине. Гомбрович всегда был в пути. И Польша, и Аргентина были для него не домом, а точками на жизненном маршруте. В этом маршруте он оставался собой: язвительным, точным, блестяще ироничным — и бесконечно одиноким.
Эдуард Веркин. «Сорока на виселице», Inspiria (512 стр., 16+)
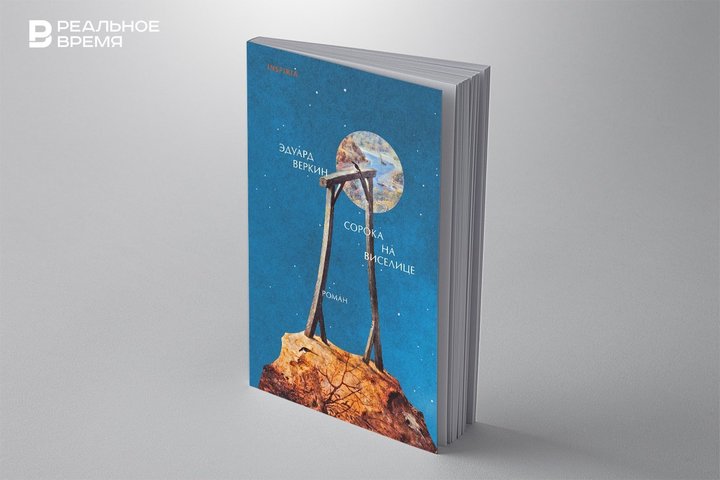
Фантастика в России — жанр с непростым характером. В нем много воспоминаний о золотом веке советской научной фантастики, много рассуждений о возможном будущем и попыток найти свою неповторимую интонацию. Эдуард Веркин давно зарекомендовал себя как писатель, который не боится экспериментов. Его новый роман «Сорока на виселице» — это очередной шаг за границы привычного, где сюжет рваный, реальность зыбкая, а логика подчиняется не законам причинности, а скорее внутренней интуиции. Здесь нет эпического размаха, космических битв и героев, движимых высоким идеалом. Вместо этого — камерная пьеса о нескольких людях, застрявших между реальностью и ее отражением.
На планете Реген, где располагается Мельбурнский институт Пространства, собирается Большое Жюри — орган, которому предстоит решить судьбу нового, рискованного эксперимента. В этот комитет, как и положено, входят ученые, философы, специалисты. Но судьба любит иронию: в Жюри попадает Ян, человек простой, спасатель, который привык решать конкретные задачи — спасать утопающих, вытаскивать людей из-под завалов. И теперь ему предстоит разобраться в загадочной синхронной физике, дисциплине, изучающей случайные совпадения, иррациональные связи и неочевидные корреляции.
Мир устроен так, что он буквально разрушается и создается заново перед глазами читателя. Причинно-следственные связи размыты, реальность превращается в игру отражений, где самая правдивая ложь — это правда, а самая убедительная правда — обман. Веркин ведет рассказ через призму субъективного восприятия Яна, заставляя нас сомневаться во всем, что он видит и слышит. Ключевые сцены — это не динамичные события, а разговоры (очень много разговоров), в которых реальность перетекает в метафору, а философия — в научный абсурд. Герои обсуждают бессмертных медведей, самоубийство искусственного интеллекта и топологические загадки. В этом потоке смыслов границы истины растворяются.
Название книги отсылает к картине Питера Брейгеля Старшего «Сорока на виселице». Что это — аллюзия, символ, метафора? Одна из возможных трактовок: люди, которые мечтают о будущем, часто оказываются обречены на казнь за свои идеи. И здесь мы снова возвращаемся к разговору о прогрессе. Люди подчинили себе пространство, победили болезни, сделали голод и войны анахронизмом. Но что дальше? Как преодолеть самих себя? Как не утонуть в своих же технологиях? Веркин дает понять, что человечество не изменилось. Мы по-прежнему спорим о морали, боимся неизвестного, продолжаем искать смысл там, где, возможно, его нет. Мы живем в мире, где больше нет рационального объяснения тому, что происходит. Но именно это и делает нас людьми. «Сорока на виселице» — это не роман о космосе и науке. Это роман о нас. О людях, которые бесконечно ищут логику в мире, где логика — лишь иллюзия. О тех, кто не может перестать задавать вопросы, даже если ответы не принесут утешения.
Хан Ган. «Я не прощаюсь», АСТ (пер. Д. Фаттахов, 352 стр., 18+)
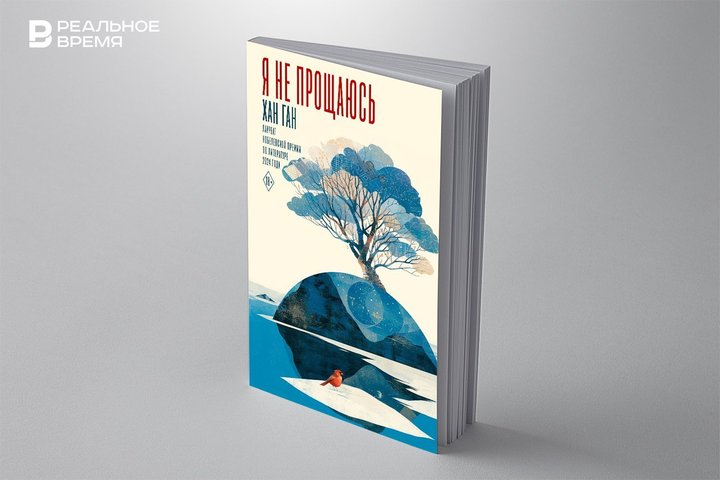
Женщина идет по снегу. Ее шаги медленные, тело ослаблено, но ей нужно добраться до одинокого дома на острове Чеджудо. Там, в этом холодном, заснеженном пейзаже, ее ждет нечто большее, чем просто просьба подруги покормить попугая. Ее ждет прошлое, спрятанное под снегом и землей, забытое, а может быть, намеренно стертое из памяти нации. Так начинается роман Хан Ган «Я не прощаюсь» — мощная история о боли, памяти и невозможности примирения.
1948 год. В Южной Корее, на острове Чеджудо, правительство жестоко подавило восстание, подозревая его участников в симпатиях к коммунистам. Более 30 тыс. мирных жителей стали жертвами репрессий. Их тела сбросили в братские могилы, похоронили в лесах, оставили в снегу. Десятилетиями об этом молчали. Десятилетиями матери ждали своих пропавших сыновей, жены — мужей, дети — родителей. И вот теперь, спустя десятилетия, героиня романа Кёнха возвращается на остров, чтобы открыть дверь в эту боль. Кёнха — писательница, пережившая множество личных трагедий. Она чувствует себя как «улитка без раковины, ползущая по лезвию ножа». Ее тело истощено, сознание размыто. Но она принимает просьбу подруги Инсон отправиться на остров. Инсон — бывшая документалистка, а теперь плотник, — случайно отрезала себе два пальца и теперь не может заботиться о своем попугае. Кёнха соглашается.
О Хан Ган читайте здесь.
Однако поездка оказывается не просто бытовым одолжением. Инсон не случайно просит именно Кёнху. В доме, куда отправляется героиня, она обнаружила свидетельства прошлых событий, нашла материалы к давно забытому документальному фильму. И вместе с этим в ее сознании ожили истории тех, кого уже давно нет. Хан Ган строит роман на многослойной памяти. Повествование чередуется между рассказами о современных событиях и страшными свидетельствами 1948 года. Автор использует дневниковые записи, отрывки из сценария, рассказы очевидцев, чтобы создать эффект погружения в забытую трагедию.
Образ снега проходит через весь роман. Он символизирует как забвение, так и попытку укрыть прошлое. Но память нельзя стереть. Она прорывается сквозь десятилетия, заставляя новых свидетелей чувствовать боль, не принадлежащую им самим. Роман балансирует между художественной прозой и документальной хроникой. Здесь нет прямых сцен насилия, но ужас передается через детали, через голоса погибших, которые, кажется, звучат прямо со страниц. Героиня не находит простых ответов, не обретает мира. В финале романа снег продолжает падать, накрывая остров, могилы и воспоминания. «Я не прощаюсь» — это роман-напоминание, роман-боль, роман-память. Он говорит, что забыть невозможно. И даже если снег временно скроет следы, весной они проступят снова.
Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».